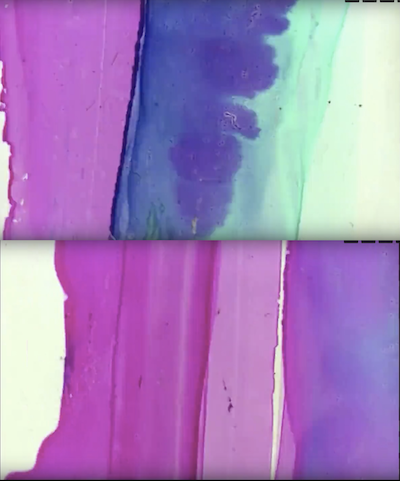Введение
Совершенно ясно, что сейчас теория анимации входит в период своего расцвета. Благодаря появлению цифровых технологий и всё более нарастающему интересу к переходным случаям, трансгрессии, смешению областей бытия, которые раньше считались изолированными друг от друга, мультипликация становится одним из самых востребованных видов искусства и привлекательным полем для исследования. В последние несколько десятилетий вышло много замечательных трудов, намечающих новые подходы к теории анимации и разрушающих представление о ней как о второстепенной разновидности кинематографа.
Стоит отметить прекрасный сборник статей «Animating Film History» под редактурой Карен Бэкман [1], цель которого — реабилитировать теорию анимации, так долго существовавшую на периферии теории кино; «The Anime Machine», монографию Томаса Ламарра [2], подробно исследующую структуру аниме и особенности восприятия этого жанра; сборник «Pervasive Animation», редактируемый Сьюзан Бакман [3] и демонстрирующий образец междисциплинарного подхода в исследовании медиумов.
Также вполне очевидно, что никакого устойчивого дискурса об анимации или убедительных попыток создать её цельную теорию на сегодняшний день не наблюдается. Её исследования, как правило, ограничиваются множеством частностей и применением уже существующих оптик, а наблюдения о её сущности разрознены и часто выражены в форме заметок на полях и отдельных фраз.
Такое состояние теории анимации заставляет непрерывно задавать вопросы о сущности этого медиума — и искать ответы в самых разных областях знания, пытаясь составить относительно цельную картину.
В этой работе я представлю те из ответов, которые показались мне более или менее убедительными и которые можно применить не только к конкретным мультфильмам, но и к анимации в целом. Я постарался применить к анимации наиболее релевантные и обладающие наибольшим аналитическим потенциалом теории из разных областей в попытке приблизиться к созданию цельной теории этого медиума, основанном на междисциплинарном знании. Структура этого текста организована как цепочка сообщающихся концептов, каждый из которых в свернутом виде содержит в себе остальные, но призван описать конкретный феномен.
В качестве основного источника примеров для иллюстрации своих размышлений я выбрал шоу «Время приключений»: оно достаточно простое, чтобы избежать лишних оговорок, но содержит в себе множество сквозных приёмов и тем анимации.
Эта работа — серия набросков, созданных в попытке схватить сущность одного разнородного, развивающегося и бесконечно интересного явления.
Мгновение / движение
Кинематограф (здесь и далее я буду называть термином «кинематограф» тот медиум, который преимущественно работает с «живой съёмкой» (life footage). Я ввожу терминологическое разделение кино и анимации не для выстраивания прямой оппозиции между ними, — как мы увидим, она иллюзорна, — но для удобства, чтобы различать два крайних случая одного континуума) оперирует особым видом длительностей, которые появляются между двумя монтажными склейками и которые можно назвать «августинианскими» или «необходимыми» (обычно они обозначаются термином «монтажные куски»). Такие длительности есть последовательности кадриков, снятых непрерывно работающей камерой, запечатляющих реальность и созданных через равные и небольшие промежутки времени.
Августинианские длительности — это срез объёмного движения мира, существующий на стыке техногенного взгляда кинокамеры и действительности (и потому их создание возможно благодаря техногенной, механической природе киносъёмки). Поэтому они всегда носят на себе отпечаток реальных законов движения и изменения материи. Объекты в кадре не возникают из ниоткуда внезапно и не уходят в никуда, все изменения происходят постепенно и не ограничиваются одним кадром. Если вы увидели, как орхидея на экране мгновенно стала кошкой или интерьер Кёльнского собора вдруг сменился поверхностью Луны, то вы предположите, что здесь замешана монтажная склейка.
Характер движения в монтажных кусках можно проанализировать, опираясь на концепцию «непрерывного творения» из трактата «О граде Божьем». Согласно Августину, в каждое мгновение Бог пересоздаёт мир заново, тратя каждый раз бесконечное количество сил, и, «если Он отнимет от вещей Свою производительную силу, то их не будет так же, как не было их до их сотворения» [4, XII, 25]. Почему всесильный Бог не созидает каждый раз новый мир, фундаментально не схожий с предыдущим, почему во время движения моя рука остаётся рукой, а не превращается в синюю планету Меланхолию? Потому что Бог благ. Для того, чтобы длительное существование структур было возможно, он строит каждое мгновение по определённым принципам, которые мы называем необходимостью или — вне дискурса религии — природным законом.
Для кинематографа понятие необходимости можно сформулировать следующим образом: если известны кадрики A и C, между которыми стоит неизвестный кадрик B, монтажная склейка отсутствует и перед камерой не происходит процессов, которые могут начаться и закончиться быстрее, чем за время прохождения обтюратором половины цикла, то существует конечное число возможных кадриков B, которое значительно меньше, чем возможное число конфигураций кадрика плёнки в принципе. При возрастании количества кадров в секунду количество возможных значений B стремится к единице.
Похоже, что фундаментальная структура кино сводится к августинианским длительностям, скреплённым с помощью монтажа. При этом значение отдельных кадриков в этой структуре отступает на второй план, их последовательный характер даже при съёмке статичных объектов становится более важен, чем каждый из них в отдельности.
Кино стремится скрыть момент-кадрик, включить его в августинианскую длительность и как бы упразднить. Оно ценит мгновение — но мгновение второго порядка, существующее только в перцепции зрителя и создаваемое путём сопоставлений уже существующих на экране движений. Когда Бельмондо в «На последнем дыхании» [1] падает на дорогу — это мгновение, такт в пульсации завихряющего времени — но не дискретный кадрик, а особый способ существования микродлительности.
Анимация (здесь и далее под словом «анимация» я буду понимать «не сгенерированную компьютером анимацию». Я также не буду рассматривать интерактивную анимацию, хотя многие концепции в этой работе применимы к ней) принципиально отличается от кино тем, что работа с августинианскими длительностями для неё не обязательна. Как замечает Том Ганнинг в статье «Animating the Instant», «с помощью движения анимация открывает динамичную природу момента» [5, с. 41].
Главная единица анимации — это мгновение. Поскольку фреймы анимации создаются по отдельности, а не сериями, каждый из них самодостаточен и не обязательно вытекает из предыдущего.
При этом момент в анимации не равен тому моменту, который существует в кино как кадрик (я говорю сейчас о технологии, а не о перцепции). В уже упомянутой статье Ганнинга заложена идея о том, что фотография — это не схватывание некоего абстрактного, бесконечного малого момента, но как бы консервированное время выдержки, оставляющее свой росчерк на светочувствительной поверхности. Разная длина выдержки позволяет снимать разные уровни существования времени: если позволить матрице фотоаппарата всю ночь ловить свет, можно получить обобщенную картину движения звёзд по небу, если сократить выдержку до тысячных долей секунды, то водопад (чье движение уже обобщено в нашей перцепции) вдруг станет набором капель. Если приглядеться, то кинематографические моменты окажутся интервалами, которые могут запечатлеть действительное время благодаря тому, что они однородны и последовательны (выдержка задаётся постоянной длительностью циклов обтюратора).
Ганнинг не делает следующий ход и не задаётся вопросом: а к какому мгновению тогда отсылает фрейм в анимации? Надо полагать, — к абстрактному мгновению, которое не содержит никак свойств реального времени, ничем не обязано предыдущим и последующим мгновениям, но, в отличие от живописи, открыто для создания Целого во взаимодействии с неопределённым множеством других моментов. Это по большей части верно даже для техники стоп-моушн, работающей с фотографиями, между которыми нет августинианских временны́х связей.
Концепция абстрактных моментов может показаться не работающей для той разновидности «cameraless animation», в которой плёнка используется как холст целиком, без разделения на кадрики — например, для «Mothlight» Стэна Брэкиджа [2] (который по всем признакам является анимацией, хотя редко классифицируется таким образом). Но скачковый механизм проектора всегда работает с плёнкой не как с континуумом, а как с серией дискретных изображений. Поэтому «Mothlight» всё равно состоит из абстрактных моментов, просто в их создание активно вмешивается случай (игнорирование человеком границ кадриков).
Сущность анимации — это превращение дискретных (не возникающих из микродлительностей) моментов в континуум движения. Собственно, подобное превращение и обозначает слово «анимация» во втором смысле, анимация как процесс, как «оживление» или «одушевление». Движение размыкает самодостаточность фреймов и включает их в Целое. Animatio — это единственное действие, фундаментально значимое для анимации, оппозиция монтажа и «монтажных кусков» для неё вторична. Монтаж всего лишь отсылает к резкой смене устойчивых, возникающих в нескольких мгновениях структур на экране.
Из-за открытости каждого мгновения следующему и предыдущему анимация едва ли является «поджанром живописи» [6, с. 2], вопреки утверждению Льва Мановича. Чтобы передать динамику бегущей лошади в максимальной степени, живописец заключит всё движение целиком в одном объекте — например, воспользовавшись советом Родена и взяв части лошади в различные моменты времени, или обобщив скорость линией. Анимация же создаст череду пароксизмов, изгибов и остановок, учреждений и мгновенных разрушений глубины, в которых каждый следующий фрейм будет подхватывать начатое предыдущим и изменять его — как это происходит в «Сельском враче» Кодзи Ямамуры [3, (05:57-06:09)]. Чтобы обеспечить разомкнутость одного момента и его готовность смениться другим, анимация скорее будет разглядывать лошадей Мейбриджа (рис. 2), чем “Whistlejacket” Джорджа Стаббса (рис. 1).

Разницу между подходами к движению мультипликации и живописи можно легко увидеть в фильме Кобела и Уэлшмана «Ван Гог. С любовью, Винсент» [4], нарисованном маслом. Большинство кадров в нём совершенно промахивается мимо динамики Ван Гога и практически не создают ощущение движения — и только места, где пространство изменяется в соответствии с каждым движением центральной фигуры в кадре, верно передают дух полотен художника, который изображал подобное явление в статике (в трейлере — 00:51–00:53).
Абстрактные мгновения, движение и Целое — это минимальное условие для существования анимации и точка её абсолютной свободы (анимация вполне подчиняется делёзианской формуле «множество — движение — Целое» — но эта формула имеет другие переменные). С помощью конкретного наполнения моментов и их последовательной связи она способна конструировать, пересобирать и мгновенно разрушать образы времени и пространства, объекты, персонажей, текстуры, паттерны, бесконечную вереницу ощущений и плохо проговариваемых свойств, которые следуют за ними. Кино работает со слитными, практически неделимыми длительностями-легато — анимация понимает движение как прерывистую, неровную пульсацию моментов, как серию толчков и шероховатостей.
Дополнение 1. Кино и анимация
В цифровую эпоху роль анимации как периферийного медиума, «придатка» кинематографа была переосмыслена. Теперь сам кинематограф зачастую представляется поджанром анимации, живая съёмка — специфичной разновидностью техники frame-by-frame.
Так, в 1995 году, в статье «What is Digital Cinema?», Лев Манович назвал кино «особым случаем анимации, который использует живую съёмку как один из многих своих элементов» [6, с. 9]. В опубликованном в 2014 году сборнике «Animating Film Theory» Алан Хлоденко обобщил это суждение для всего кинематографа и провозгласил его «первым принципом анимации» [7, с. 98].
Если понимать кадрик кино и абстрактное мгновение анимации как сущности одного порядка и учитывать историческое происхождение кинематографа из камеры обскура, фенакистископа и прочих подобных устройств, то такая концепция взаимоотношений кино и анимации вполне убедительна. Действительно: августинианские длительности и реальность — это способ существования моментов, который кажется одним из возможностей взаимодействия мгновения и движения.
Но даже если принять во внимание вышесказанное, подобная классификация имеет слабый потенциал для аналитических исследований. Ход Мановича только утверждает значимость анимации в XXI веке, но не даёт никаких инструментов для конкретного разделения случаев на анимацию и кинематограф.
Представляется практичным (и достоверным) воспринимать техники анимации и кино как два полюса одного континуума, в который в том числе поместятся спецэффекты, компьютерная анимация, эксперименты кинематографа по обнажению момента собственными силами, копирование анимацией достижений кино. Августинианское движение — достаточно фундаментальное явление, чтобы придавать ему особое значение: только оно рождается непосредственно из взаимодействия технологии и реальности, взятой в динамике, и только попытка схватить его позволяет скрыть дискретные мгновения, заложенные в основу любого фильма.
Если анимация и кино образуют континуум, то всякий цифровой (и не только) фильм не является чем-то абсолютно однородным по своей природе, но сочетает в себе несколько принципиально разных техник. Работа с дискретным мгновением в кинематографе — например, вставки неподвижных изображений в «Доме, который построил Джек» Триера [5] — это кивок кинематографа в сторону анимации. А магия и драконы в «Хоббитах» Питера Джексона [6] попытка анимации точно скопировать августинианское движение. «Взлётную полосу» Маркера [7] с такой позиции можно воспринимать скорее как нетипичный случай анимации, играющий со способностью абстрактных мгновений приобретать собственную длительность с помощью реального времени просмотра, а не как экспериментальное игровое кино.
Признание существования целого ряда несхожих, промежуточных случаев — первый шаг к лучшему пониманию функционирования современных медиа.
Дополнение 2. Мерцание
Потом так как у тебя справедливо исчезло восприятие ряда движений как чего-то целого, что ты называл ошибочно шагом (Ты путал движение и время с пространством. Ты неверно накладывал их друг на друга), то движение у тебя начнет дробиться, оно придет почти к нулю. Начнется мерцание. Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь).
А. Введенский, «Серая тетрадь» [8]
Как именно анимация внушает глазу наличие движения?
Можно предположить, что, когда мы смотрим мультипликационный фильм, мы постоянно и неосознанно сравниваем каждое следующее абстрактное мгновение с серией предыдущих и находим их разность. Эта разность и становится движением, существующим не в каждом отдельном фрейме, но между ними.
Можно было бы снять анимационный фильм, в котором каждый фрейм абсолютно отличался бы от предыдущего по всем мыслимым свойствам плоскости. Такое произведение было бы гимном не-необходимому изменению, неинтеллигибельности мира. Но на практике, чтобы извлечь из двух мгновений или длительностей максимум движения, стоит создать в них общую структуру, изменение свойств которой и будет восприниматься как движение. Устойчивая структура служит гарантом разомкнутости моментов и позволяет «сшивать» их в длительности и сочетаться не только друг с другом, но и с Целым фильма.
Так, в «Снах Бананана» из «Ассы» [8] Соловьева или в «The Dante Quartet» [9] Брэкиджа устойчивой структурой служит техника рисунка, палитра цветов, сходство формы пятен. Смена фреймов здесь воспринимается как проявление конфигураций одной и той же структуры и постепенное её развитие, мутация, трансформация (рис 3). Благодаря устойчивости некоторых свойств экрана, эти фильмы схватывают чистое и интенсивное движение — хотя ничего августинианского в них не найти.
В «Quartet N2» [10] Анастасия Панина создаёт образ невыносимо текучего, неустойчивого, как бы истончающегося времени, накладывая друг на друга сразу несколько разновидностей структур и движений: «устойчивая техника + неавгустинианское движение, получаемое путём пересоздания каждого мгновения (смены текстур и конфигураций линий, создаваемых кистью или углём) + устойчивые в сериях мгновений образы-объекты и пространства + псевдоавгустинианское движение образов-объектов и пространств + неавгустинианское движение образов-объектов и пространств» (рис. 4).
Неавгустинианская смена свойств фреймов с сохранением устойчивых структур порождает движение-мерцание. В мерцании каждое мгновение выступает самостоятельным и завершенным, —но одновременно вписанным в Целое. Момент зацепляется за глаз своим навязчивым существованием, как точка, шероховатость или крючок — и тут же подхватывается следующим. Мерцающее движение постоянно учреждается-распадается-пересобирается, исчезает в собственных лакунах и начинается с нуля.
Здесь возникает проблема: чем является собственная длительность абстрактных мгновений, когда они в неизменном виде «зависают» на экране и наше восприятие схватывает их устойчивость и неизменность — как, например, кадры во «Взлётной полосе» Маркера или фоны во многих произведениях 2-D анимации? Очевидно, такое «застывшее» абстрактное мгновение не похоже на неподвижные длинные планы кинематографа, которые напоминают о том, что схватываемый камерой реальный мир существует во времени, что даже неподвижный пейзаж непрерывно изменяется (ведь само по себе абстрактное мгновение изменяться не может, изменение существует только в сериях мгновений).
Замершее абстрактное мгновение не отсылает ко времени-как-движению. Оно есть не-событие, радикальная остановка, и единственная длительность, к которой оно обращается — длительность самого сознания, его временнáя природа, которая не обусловлена трансформациями окружающих его вещей. «Взлётная полоса» Маркера с его неспешной сменой абстрактных мгновений-фотографий как раз и показывает мир, в котором время «сломалось» и единственную длительность производит память (рис. 5).
Итак, движение-мерцание сочетает в себе неавгустинианскую трансформацию структур в сериях абстрактных мгновений (события) и собственную длительность мгновений, отсылающую только к временнóй природе сознания (не-события). Мерцание — это самобытный и очень любопытный ответ анимации на вопрос о природе времени, который требует отдельного и тщательного анализа.
Бóльшая часть анимационных фильмов — назовём их «августинианскими мультфильмами» — старается воссоздать августинианское движение и скрыть мерцание мгновений. Для этого аниматоры минимально изменяют каждый следующий фрейм относительно предыдущего и иногда резко сменяют все структуры с помощью «псевдомонтажной склейки». Большинство структур в августинианской анимации остаются статичными или изменяются с механической поступательностью, присущей реальному движению.
Причины существования августинианских мультфильмов вполне понятны: они хорошо передают нарративы, могут использовать многие достижения кино и при этом сохраняют возможность работать с фантазмами, фреймами и большинством разновидностей морфинга (о которых речь пойдёт в следующих разделах этой работы).
Любопытно, что августинианская анимация практически не способна целиком воспроизвести то движение, которое обусловлено темпоральной природой действительности и которая схватывается кинематографом. Из-за неуловимой изменчивости мира во времени в кино остановки «превращаются в вибрацию как таковую» [9, с. 65]. Поэтому в «Одинокой вилле» Гриффита [11] дрожат и имеют собственную жизнь даже стены. Но, к примеру, в диснеевской «Золушке» [12] фоны кажутся статичными и безжизненными. Почему? Потому что это просто абстрактные мгновения, которые долго существуют на экране и соединены с помощью пространственного монтажа с серией движений, производимых персонажами (Эйзенштейн настаивал на стилистическом разрыве у Диснея между «по-детски подмалёванным фоном и поразительным совершенством движения и рисунка подвижных фигур основного — переднего плана» [10, с. 427]).
Реальность
Вы смотрите диснеевскую «Золушку» 1949 года [12] и во время сцены танца с принцем чувствуете, как переживаемые героями ощущения проецируются на вашу собственную телесность и преломляются ею. Вы одновременно подглядываете за их танцем и участвуете в нём, что порождает у вас интимные чувства стыда, желания, завороженности, отторжения. Кажется, что, если вы прикоснетесь к экрану пальцами, вы ощутите шуршащую ткань платья, разгоряченные тела танцующих.
Похож ли описанный выше опыт на настоящий опыт просмотра «Золушки»? Видимо, не очень. Анимация редко работает с телесностью напрямую, а её механизмы, позволяющие поставить зрителя в позицию вуайериста, отличаются от таковых в кинематографе. Это связано с особыми отношениями анимации и реальности.
В прошлом разделе я уже рассматривал некоторые свойства кинематографа, проистекающее из его индексальной природы, его возможности запечатлять реальность. Но подробно был разобран только характер самого кинематографического движения, а не конкретное наполнение кадра. Тем не менее, для дальнейшего анализа важно понимать, что именно движется в анимационном и кинематографическом кадре.
В статье «Cinematography: the Creative Use of Reality» Майя Дерен описывает отличие «анимированных картин» от фотографической и кинематографической съёмки с помощью концепции «контролируемой случайности».
Создающий фильм или фотографию волен поместить в кадр любые локации или объекты, с помощью различных манипуляций включая их в продукт человеческого творчества, который не становится равным окружающей нас реальности или опыту взаимодействия с ней. Тем не менее, в кадре всегда остаётся нечто случайное, то, с помощью чего действительность утверждает своё присутствие на плёнке: текстура предметов и человеческого тела, тончайшие игры светотени, трансформация цветов на поверхностях, серии разреженностей и плотностей, присущие только природе. Это сочетание «продуманности» и «непредсказуемости» в фильме Дерен и называет контролируемой случайностью [11, с. 157].
Благодаря союзу с реальностью кино получает множество преимуществ. Оно имеет упрощенный доступ к телесности, к присутствию, к «реальной» протяженности времени. Я полагаю, что даже такой сложный опыт, как ощущение смерти, трагедии или катастрофы, на создание которого работают нарратив, монтаж, ракурс и т.д., частично зависит от контролируемой случайности: уничтожение нарисованного тела редко вызывает чувство необратимости. Прозрачное, сотканное из света и цвета тело фильма получает вес — причём как бы бесплатно, по праву происхождения.
В то же время, реальность устанавливает диктатуру над светочувствительными поверхностями. Та область действительности, которая проявляется при взаимодействии света и камеры, обладает (является) структурой, наполненной законами движения, взаимоотношения света и тела, закономерностями существования материи. Эта структура всегда в какой-то мере проявляет себя в живой съёмке и накладывает на неё строжайшие ограничения. Из всех возможных состояний плоскости экрана и из всех их возможных серий живая съёмка способна оперировать только теми, которые могут быть получены с помощью взаимодействия плёнки и реальности.
Конечно, изначально кадры некомпьютерной анимации самым непосредственным образом принадлежат реальности, которую тоже схватывает камера в процессе создания мультфильма (это верно даже для графики). В «Крокодиле Гене» Качанова [13], сделанном в технике стоп-моушн, текстура материала кукол и декораций проявляет себя и даже делает фильм «более гаптическим».
Здесь можно сделать следующий ход и сказать: реальность, заснятая на камеру, избыточна — или даже сверхизбыточна (рис. 6). Она никогда не сводится к задумке режиссёра или даже к тому, что мы могли бы описать. Поверх нарративов, образов, персонажей (контролируемого) всегда наложено что-то ещё, что Майя Дерен назвала бы случаем (из-за которого вещи не только говорят сами за себя, пронося на плёнку часть своей непознаваемости, но и не обобщаются до паттернов и схем), а Пазолини — совершенно с других позиций — «гипнотическим монстром» [12]. Сверхизбыточность — прямое следствие индексальной природы кинематографа, она позволяет фильму уклониться от полного схватывания языком и чувством зрителя, не быть только сознанием или его слепком.
Анимации не гарантирована избыточность. Мультфильмы не просто заставляют вещи двигаться иначе, чем в действительности: движение, зависшее между абстрактными мгновениями, вообще не отсылает к вещи и копирует скорее процессы мышления, чем проявление реальности. Даже августинианская анимация работает с человеческим представлением о движении.
По своей природе анимация не способна пропускать через себя непосредственную действительность. Этот вид искусства говорит сам за себя, и случай в нём существует лишь в том смысле, в котором художник во время написания картины не знает её финального образа (стоп-моушн, впрочем, может запечатлевать текстуры, вырванные из контекста существования «реального» объекта).
Но если не с реальностью, то с чем работает анимация? Из чего она сделана, что составляет её плоть? Может ли она производить какую-то свою, особенную избыточность?
Реальность / сознание
В последнее время сериал «Время приключений» [15] — простейшая августинианская анимация — предстаёт передо мной как вопрос, как загадка, требующая решения.
Почему вообще-то довольно серьёзные темы (гармония и хаос, убийство отца, слежка и паранойя, конструирование морали, взросление, безумие и субъектность, поиск свободы от навязываемых социумом ролей) кажутся в этом шоу как бы лишенными веса, проскальзывают на краешке сознания? Почему фантастические персонажи, в реальности казавшиеся бы монстрами (персонификации огня и небытия, говорящие роботы и животные), не вызывают чувства неправильности и страха, будто бы я каждый день имею дело с подобными явлениями? Как получается, что я даже не могу помыслить этот сериал сделанным в технике живой съёмки (что бы потерялось в этом переходе)? Из какого такого странного теста, не похожего ни на опыт реальности, ни на кинематограф, состоит «Время приключений»?
Можно предположить, что разгадка странных эффектов «Времени приключений» имеет один общий корень, который тесно связан с природой человеческого восприятия. Попытка найти этот корень в данной работе носит предварительный характер, я попытаюсь построить цепочку гипотез, которая, по крайней мере, может быть осуждена, принята или опровергнута в дальнейших исследованиях.
Рассмотрим глаз Принцессы Жвачки, одного из персонажей «Времени приключений». Что это за глаз? Чёрная точка, отсылающая к нашему самому общему представлению о глазе, становящаяся глазом только во взаимодействии с другой такой же точкой и неким набором линий чуть ниже, который мы распознаём как рот.
Подобные глаза мы можем наблюдать в произведениях искусства всех эпох, начиная с наскальной живописи. Разница в том, что глаз Принцессы Жвачки включен в серию движений, он постоянно пересоздаётся вместе с абстрактными мгновениями, и поэтому это живой глаз. Это не совсем знак, но и не настоящий орган зрения — это глаз-без-органов, фантазматический глаз, который в большинстве абстрактных мгновений служит скорее для распознавания лица персонажа, но содержит в себе возможность для проявления всех свойств, присущих глазу. Если аниматору понадобится, он моргнёт, обретёт зрачок, исказится, ослепнет. В некоторых сценах мы даже сможем вспомнить, что с помощью глаз мы видим вещи.
Глаз Жвачки можно проанализировать с помощью теории фреймов из когнитивной науки (рис. 7).
Фрейм — понятие, введённое в когнитивистику Марвином Мински и обозначающее «информационную структуру для репрезентации стереотипной ситуации», хранящуюся в человеческой памяти. Согласно Мински, фреймы — это своеобразные информационные заготовки, которые сверяются с реальностью и позволяют быстро распознавать известные объекты и явления (если ситуация не позволяет применить заготовленный фрейм, то образуются новые или корректируются старые). Фреймы обладают «терминалами» (terminals): чем-то вроде разъёмов, валентностей, которые позволяют связать фрейм с его маркерами, по которым он опознаётся при восприятии реальности, и регулируют его отношения с другими фреймами. У стула (фрейма) есть несколько ножек, сидение и спинка (маркеры / под-фреймы (subframes)). На стул можно садиться (связь с другими фреймами) — это уже не один фрейм, а небольшая система стереотипных кусков информации, связанная терминалами (далее я буду называть термин когнитивистики фреймом-2, чтобы иметь возможность отличить его от фрейма —абстрактного мгновения) [13, с. 1–3].
Точка — это минимальный маркер соответствующего фрейма-2, «округлая фигура на лице» / «фигура, образующая лицо». Когда мы смотрим «Время приключений», мы сталкиваемся только с самыми общими представлениями о глазе. Поэтому нет ничего удивительного, что абстрактный глаз может принадлежат телу, состоящему из жвачки: в наших представлениях, в глубинах мифологического сознания, вещи смешиваются с человеком, деревья мыслят и видят, а собаки говорят. Более того, мы не будем слишком озадачены, если глаз вылезет из орбит или обретет самостоятельную жизнь отдельно от хозяина.
С помощью маркеров фреймов и актуализации их терминалов, отсылающих к тем или иным свойствам вещей, «Время приключений» в разные моменты времени отсылает к разным частям нашего представления о предмете. В кино именно биология реального глаза, его полнота, сверхизбыточность, его способность содержать сразу все представления о глазе и превосходить их, делает глаз самозамкнутым, «случайным» в терминологии Майи Дерен.
Весь образ Жвачки — и весь мир «Времени приключений» — построен по тем же принципам, что и глаза Принцессы. Минимальные наборы линий и цветов позволяют нам различать обобщенные фреймы-2, которые свободно сочетаются и образуют совершенно нестрашных, естественных «монстров». Отсутствие сверхизбыточности в этих монстрах позволяет забыть об их невозможности: огонь не может говорить только в том случае, если его рот состоит из мяса. Мы видим, что тело Жвачки имеет женскую фигуру, но оно лишено кожи, печени, гениталий, хотя может их отрастить, если аниматор захочет напомнить нам об их существовании. Это тело также состоит из абстрактной жвачки без вкуса и запаха — но в отдельные моменты оказывается, что волосы Принцессы можно жевать, что она может растягиваться (вообще большинство персонажей «Времени приключений» состоит из двух или более систем фреймов-2 по формуле x1 + x2 + … + человек, где х = собака, огонь, робот и даже человек в смысле «обладающий только фреймами-2 человека и ничем более» (Finn the Human)).
Нарисованные вещи без органов (Арто настолько же неуместен в мультипликации, насколько необходим) не могут настаивать на собственном автономном, самодостаточном существовании, приводя как аргумент свою полноту и сверхизбыточность. Отсюда — деформированная телесность в августинианской мультипликации вроде Looney Tunes (рис. 8). Тело сгибается в гармошки и искривляется под действием наковален и кувалд, — но это не кажется нам страшным, поскольку аниматоры не задействуют маркеры поломки: кровь, торчащие кости, оторванные конечности, которые бы отсылали к представлению о теле как о том, что может разрушаться.
По своей логике «Время приключений» очень похоже на мир снов, фантазий и представлений. Сны опускают те свойства вещей, которые нам неизвестны или не важны на данный момент, в них объекты уточняются и усложняются, когда мы обращаем на них внимание.
Но рисовка сериала, тем не менее, не сводится только к человеческому сознанию. В ней есть что-то «лишнее», что-то, что позволяет сказать: «Не я придумал Принцессу Жвачку, она существует отдельно от меня». Это лишнее проявляется, во-первых, в непредсказуемости движений и изменений её тела, в автономности её речи (она одушевлена, в смысле — анимирована), во-вторых — в выборе репрезентации маркеров тех или иных состояний, в их взаимном расположении, в конкретном оттенке её лица. Мы знаем, что у принцессы Жвачки есть какие-то нередуцируемые до представлений свойства: например, она всегда розовая, всегда имеет волосы. Если бы в одной из серий волос не оказалось на её голове, то мы бы поняли, что она «действительно» стала лысой, а не просто отображает настолько обобщенное представление о человеке, что мы можем забыть о существовании у неё волос. Образ принцессы Жвачки подчиняется определённым правилам: если бы она без всякого объяснения стала оранжевой, это было бы почти так же странно, как если бы она стала реальной и сверхпревосходящей наши представления.
Небольшие избыточности, не сводящиеся к маркерам фреймов, позволяют утвердить независимость мира «Времени приключений» от нашего восприятия. У этого мира есть какая-то обобщенная, абстрактная субстанция, которая обладает собственными физическими свойствами: так, чёрные линии всегда очерчивают контуры персонажей, Жвачка розовая, у неё вполне конкретное лицо, узнаваемая фигура. Именно «избыточная» устойчивость некоторых её свойств позволяет дать ей имя, благодаря ей она становится личностью, и мы всегда можем распознать её на экране. В конечном счете, эти свойства становятся собственными маркерами Принцессы Жвачки, позволяя легко узнавать её образ. Её глаз, изменяясь и подключая разные части наших представлений, всегда остаётся собой, он тождественен себе на всём протяжении сериала, пусть даже иногда у него есть белок и зрачок, иногда — нет.
«Лишнее» в сериале как бы заполняет пробелы, обрывочность нашего сознания, превращая полное лакун представление в сплошной континуум движения.
Шоу «Время приключений» и подобные ему сериалы — это промежуточная стадия между сознанием и автономным миром, оно может свободно сочетать самые абстрактные человеческие представления о вещах и одновременно не сводиться к ним. События в сериале случаются вне зависимости от наших желаний и представлений.
По-видимому, восприятие персонажей «Времени приключений» как сущностей, чьё существование частично взято взаймы у сознания смотрящего, распространяется и на более сложные явления в шоу: темы, нарративы, конфликты и т.д. Они также кажутся «полуреальными», «совсем чуть-чуть избыточными» — и поэтому воспринимаются иначе, чем подобные смыслы в кино.
Кино одновременно утверждает независимость от нас с помощью сверхизбыточности и проникает в нас через «схожие режимы бытия-в-мире» [14, с. 235]. Оно существует как что-то среднее между состояниями экрана и смотрящим, и в это усреднение включаются наши тела, самые сложные наши представления о мире, то, что мы не могли бы выговорить — и полнота вещей, запечатлённых на экране. Возможно, именно из сверхизбыточности кино черпает свои возможности к производству чувств, драматизму, не зависящих от нас смыслов и убеждений: кинематограф приключается с нами, случается с нашим телом.
Анимация в духе «Времени приключений» разменивает собственную полноту и автономность на свободу от диктата реальности, возможность не принимать в расчёт упорствующие вещи как они есть, постоянно менять их, делать чем-то другим, навязывать человечность деталям ландшафта. Точка, в которой существует Принцесса Жвачка, смещается от экрана по направлению к сознанию, мы уже не воспринимаем её телом, мы не считаем её чем-то независимым и внешним. Анимация близка к разговору с самим собой, к рефлексии, к вольному исследованию представлений и сознания — хотя, тем не менее, никогда не соглашается полностью редуцироваться до этих вещей. По своей природе она напоминает поэзию.
Разумеется, «Время приключений» — это очень простой случай анимации с минимальной избыточностью. Анимация способна очень многими способами подчёркивать свою неравноценность сознанию, настаивать на своей независимости, уходить от представлений. Она может заимствовать части сверхизбыточности реального мира (стоп-моушн. Например, в «Тьма / Свет / Тьма” Шванкмайера [17] (рис. 9) отпечатки пальцев на пластилине напоминают о теле и прикосновении чуть ли не сильнее, чем сюжет), может быть неинтеллигибельной и самостоятельной в мерцании (Брэкидж, Александр Свирский), может заимствовать свойства и режимы движения из других направлений искусства – например, музыки (Len Lye), — может изменять позаимствованные у мышления представления настолько быстро и непредсказуемо, что мысль не угонится за этими изменениями (часть поэтики Кодзи Ямамуры) — и, конечно, может комбинировать все эти способы и бесконечно учреждать новые. Многие из этих избыточностей не связаны с индексальностью кино или даже контролируемой случайность, все они могут учреждать разные опыты, разные взаимоотношения зрителя и экрана. Анимации действительно удобно работать с представлениями и маркерами ситуаций, но она не ограничивается этим и легко выходит за пределы говорения и образа, обращаясь к самым разным областям бытия человека и мира.
Даже «Время приключений» конструирует более сложную избыточность, чем просто произвольный выбор маркеров фреймов-2: в шоу настолько много персонажей с продолжающимися, переплетающимися, обрывающимися линиями развития, все его фоны настолько забиты предметами, каждый из которых отсылает к отдельной истории, что зрителю кажется, что сам нарисованный мир существует и развивается за пределами его опыта просмотра. Каждый персонаж по отдельности похож на его фантазию, но фантазиям не свойственно образовывать слишком сложные и устойчивые системы и заключать союзы друг с другом за зрительской спиной.
Дополнение 1. Фантазм
В разделе «фрейм / реальность» я писал в первую очередь о влиянии рисовки и движения во «Времени приключений» на зрительское восприятие. «Полуреальность» шоу лишь косвенно затрагивает само наполнение мультфильма (разумный банан скорее будет нарисован, чем снят) и не определяет его нарративное содержание. Например, в «Дарье» Эйхлера и Линн [18] нет ничего фантастического или радикально разрушающего зрительское представление об обыденном (хотя не вызывающие сомнений, «достоверные» стереотипы в ней всё равно пользуются соотношением рисовка-представление).
Тем не менее, анимация — это прекрасный медиум, чтобы работать с фантазмами и желаниями. Представления, освобожденные от избыточности вещей, не обремененные биологией и подробностью, становятся в мультипликации более яркими и чистыми.
По поводу отношений фантазма и реальности можно привести два любопытных наблюдения.
Во-первых: если вы приедете на любой фестиваль мультфильмов в России, то, скорее всего, обнаружите, что большая часть анимации обращается к темам детства, взросления или к сказочным формулам — даже если фильмы не адресованы ребёнку (влияние Диснея на медиум или влияние медиума на Дисней?). Кинематограф часто обращается к ностальгии, опосредованной уже взрослым героем: этот герой похож на нас в стратегиях существования, поэтому мы разделяем его чувства. Мультфильму удобно показывать детство без посредников, так как любая нарисованная ностальгия уже была в зрителе, это маркированная, стереотипная, общая для всей культуры ностальгия.
Во-вторых: порнография, состоящая из реальных августинианских длительностей, очень часто пытается предложить обыденные ситуации и места, в которых легко отождествить себя с участниками событий. Рисованная порнография — в частности, хентай — полон крайними выражениями насилия, монстрами и инопланетянами, невозможными ситуациями (которые, впрочем, всё равно легко могли бы быть сняты на камеру). Из-за того, что рисовка хентая также отсылает к обобщённым представлениям о реальности, к анимационному телу без органов, в фантазийные сюжеты проще поверить. Кроме того, этот жанр не работает с реальной телесностью, но зато передаёт другой уникальный опыт: собственные фантазмы зрителя «случаются», их полное лакун нутро преобразуется в сплошное движение.
Морф
...листая Овидия, [видишь, что] некоторые страницы его кажутся списанными с короткометражек Диснея...
Эйзенштейн С., “Дисней” [15, с. 172]
Раннее уже отмечалось, что анимация способна на мгновенные изменения и пересоздания своих движущихся миров, реинтерпретации и мерцания, переключения между разными частями одной той же системы представлений.
Метаморфоза, «бытие в промежутке между формами» — это самый естественный, самый базовый приём анимации, возникающий на протяжении всей её истории, начиная с «Фантасмагории» Эмиля Коля [19] и заканчивая «Риком и Морти» [20]. Носителем метаморфозы является морф — сущность, предстающая как бесконечный континуум собственных состояний, остающаяся собой во время становления чем-то радикально другим.
Для Вивиан Собчак, одного из главных идеологов морфинга цифровой эпохи, морф — это в первую очередь мгновенные трансформации тела, становящиеся метафорой (и истоком) текучести, изменчивости субъекта в современную эпоху. Морф — это наш двойник, которого мы считаем странным и невозможным — и одновременно идентифицируем себя с ним [16, с. 132]. Центральная фигура сборника эссе под редактурой Собчак — «Visual Transformation and the Culture of Quick Change» — это Терминатор, человек-машина, способный менять свои обличия и части тела (рис. 10).
Для анимации морфы, подобные Терминатору — лишь частный случай. Этот медиум работает с морфом-техникой, морфом-пространством, морфом-временем, непрестанно трансформируя опыт зрителя. Морф анимации отсылает не столько к “плазматическим” состояниям субъекта, сколько к тотальной непредсказуемости бытия и сознания, к их неопределённости, неисчерпаемости и готовности всегда оказаться чем-то иным – при этом сохраняя парадоксальную цельность.
Разные случаи анимационных морфов стоит рассматривать отдельно, поскольку каждый из них обладает огромным количеством частных свойств (и случаи эти неисчерпаемы, ниже я проанализирую только некоторые из них). Тем не менее, можно указать некоторые общие для всех видов морфов замечания.
1. Морф решает давнюю проблему множественности и единства специфическим и очень важным для современности способом. Согласно Собчак, он «не только утверждает «одинаковость», проходящую сквозь различия, но и «одинаковость» самих различий» [16, с. 139].
Можно представить соотношение целого и части в морфинге в три хода. Первым ходом морфинг разрушает представление об единстве и неизменности объекта, расщепляя его на разные состояния, заставляя быть иным по отношению к себе. Вторым — обнаруживает некоторое более сложное, метафизическое единство этих состояний, позволяющее объектам оставаться цельными в изменениях. Третьим ходом он стирает оппозицию между целым и частью, разницу между состояниями объекта, и предстаёт как однородное становление. Первый, второй и третий ход соотносятся так же, как абстрактные мгновения, движение и Целое.
Я полагаю, что если в анимации появляется некий «сухой остаток», нечто неизменное, остающееся на любой стадии трансформации, то мы воспринимаем это нечто как объект становления, «тему, на которую происходит морфинг».
2. Как пример доцифровой трансформации в кинематографе Вивиан Собчак приводит сцену из классического хоррора: «Человека-волка» Уоггнера [22]. В ней Чейни Лон-младший постепенно, с помощью монтажных склеек и стоп-моушна, превращается в волка. Хотя в логике фильма это превращение действительно и необратимо, зритель замечает склейки и понимает, что в реальности между двумя кадрами проходили многие часы работы над гримом. Трансформация здесь не вмещается в августинианскую длительность и происходит как бы у нас за спиной, пока мы моргаем.
Морфинг в цифровую эпоху (анимационный морфинг) может создать Рисюзию постепенного и непрерывного изменения, становления-иным прямо на глазах у зрителей. Это уже не Рисюзия, в которой фокусник накрывает слона куском ткани и, сдёргивая её, показывает девушку в меру удивлённой публике. Это физическое изменение, наглядная трансформация материи вопреки любой интуиции о том, что возможно и невозможно в реальном мире.
Это изменение настолько удивительно и экстатично, что возникает соблазн свести все виды метаморфоз к поступательной, августинианской трансформации, объявить её эталоном морфинга. Но провозглашение подобного эталона сильно ограничит наше понимание мультипликации.
Текучесть и «бытие-между-формами» пронизывают анимацию на всех уровнях. Они есть в мерцании, в искривлениях пространства, в изменчивости техники, в резких, не мотивированных нарративом сменах характера персонажа. В цифровую эпоху вполне можно представить любую анимацию (и даже живую съёмку) как постоянный морфинг пиксельной видеомассы, лежащей в основе всякого изображения на экране компьютера.
Метаморфоза в анимации — это континуум случаев. Главный её признак — диалектика дискретного объекта и множества: если сущность стала радикально, «онтологически» другой, но мы способны принять два её состояния как две части целого — это метаморфоза. Причём сущность может быть сколько угодно абстрактной: когда шарики в «Quartet N2» [10] превращаются в чёрную точку, а затем разрастаются, становясь чистой неустойчивостью, мы всё равно воспринимаем эти изменения как метаморфозу: трансформацию абстрактной субстанции, из которой состоит фильм.
Если из континуума морфов мы захотим исключить пример с оборотнем или разные лица в фильмах про Джеймса Бонда — то стоит вспомнить, что анимация, работающая с абстрактными мгновениями, ничем не обязана реальным временным отношениям (в том виде, в котором они запечатлены в августинианских длительностях), а её персонажи могут быть узнаны по минимальным маркерам и не упорствуют в желании оставаться собой (в отличии от сверхизбыточного лица актёра, играющего Бонда). Когда мы смотрим кино, тесно связанное с действительностью, мы можем вспомнить о том, что монтажные куски образуют единство только благодаря конвенциями — поэтому в превращении актёра в волка мы чувствуем обман, фокус.
3. Каким образом трансформируется T-1000, как именно работает жидкий металл, из которого он состоит? Может быть, здесь замешаны нанороботы? Подвижные магнитные поля? Технологии будущего, которые мы не можем даже помыслить?
Когда зритель смотрит фильм, он не задаётся подобными вопросами. Даже если он получит на них ответ, то ничего от этого не выиграет.
Метаморфоза в анимации, даже оправданная нарративом, всегда происходит потому, что её объект — тело без органов, нерасчленимое и текучее. У морфа-персонажа нет селезёнки, морф-пространство состоит из однородной массы.
Морфинг не включен в цепочку причина-следствие, у него нет частей, поэтому нет предпосылок, это гимн не обременённому структурой, лишенному костей желанию. Границы между мыслью и материей в анимационной метаморфозе стираются.
Техника / морф
Появление термина «техника» в тексте про анимацию немедленно вызывает множество проблем. Интуитивно понятно, что техника анимации — это «то, как сделан» тот или иной фрагмент, другими словами — это законы, по которым анимация конструирует свою избыточность, та самая абстрактная субстанция, из которой она сделана. Но когда дело доходит до использования этого термина, появляются сомнения: нужно ли считать мультфильм, в котором кукольные персонажи перемещаются в нарисованном на компьютере фоне, снятым в двух или в одной технике? Если фрагмент решён как живопись по стеклу и в какой-то момент стекло разбивается — сменилась ли техника? А если вдруг в карандашной анимации появляются масляные краски?
Можно сказать, что у каждого анимационного произведения существует только одна техника: морф-техника, потенциально обладающая бесконечным количеством состояний. Она постоянно меняет режимы восприятия сущностей на экране, отвечает за текучие паттерны мира-как-становления, коим и является мультфильм. Если мы находим между двумя абстрактными мгновениями множество общих закономерностей, то техника меняется «не слишком», её флуктуации можно вынести за скобки и списать на трансформации пространства или объекта (тем не менее, даже небольшое изменение экспрессивности линий на фонах мультфильма есть изменение техники). Морф-техника = абстрактная субстанция мультфильма (= избыточность, взятая в динамике). Эта субстанция колышется и рябит, подвергается микро- и макро- трансформациям. Вместе с субстанцией меняются все сущности, которые из неё состоят.
Если всерьёз взяться за проблему техники и морфа в анимации, то становится ясно, что любой анимационный фильм — это сплошное становление, стирающее различие между своими частями и состояниями, которое Делёз иногда называет временем: «полнотой, то есть незнакомой формой, заполненной изменением» [9, с. 310]. Мы воспринимаем некоторые устойчивости в этом становлении, изменения которых не так заметны, как объекты, персонажи, линии, цвета, некоторые — как пространства, некоторые — как время в значении «законы последовательности». Всё, что мы не можем распознать так просто, что плохо схватывается в говорении — в том числе соположение всего названного раннее, — можно обозначить словом «техника». В кино проблема техники стоит не столь остро просто потому, что взаимодействие камеры и реальности порождает похожие «плохо распознаваемые» явления, на разницу которых можно закрыть глаза (избыточности очень разнятся, сверхизбыточность более или менее устойчива в своей превосходной степени).
Иногда среди мерцаний и длительностей мультфильма происходит вспышка: резкая смена свойств техники-морфа. В такие моменты мы особенно чётко понимаем, что со всеми сущностями в фильме произошла коренная метаморфоза и что они никогда и не были по-настоящему устойчивы и неизменны.
Бóльшая часть культового трёхминутного видео «Don't Hug Me I'm Scared» [23] в основном решена как сочетание живой съёмки и стоп-моушн, пародирующее по стилистике детские кукольные сериалы вроде «Маппет-шоу». Первые две минуты играет безобидная на первый взгляд песенка — в которой, впрочем, есть тревожности и странности. Зрителю показывается только кухня, на которой сидят персонажи, всегда снятая с одного ракурса общим планом, либо крупные планы объектов. В какой-то момент музыка наполняется электронными помехами, куклы сменяются на 3-D рисовку, причём персонажи и пространство остаются прежними, узнаваемыми по своим цветам и маркерам, и точка зрения, с которой зритель наблюдает за сценой, облетает вокруг кухни (рис.11). Зритель видит, что в той части помещения, из которой он всё это время наблюдал за действием, располагается нарисованная в 3-D камера, микрофон, режиссёр и хлопушка-нумератор, на которой написано «Don’t Hug me, I’m scared».
Что произошло? Тревожность, до этого витавшая в видео, воплотилась в резкой трансформации морфа-техники, позволяющей обнажить текучесть и непостоянство всех конвенций, существовавших до этого. Случилась очень странная метаморфоза: камера, расположенная в реальности и снимавшая куски живой съёмки, оказалась состоянием объекта-морфа, существовавшего (всё время?) в диегезисном пространстве фильма, ждавшего изменения техники, чтобы открепиться от взгляда зрителя. В то же время в новом состоянии камера потеряла свою функцию запечатления, стала слепым киноглазом, — просто потому, что стало возможным увидеть её со стороны. В кино точка зрения зрителя так или иначе прикреплена к камере: морф-техника способна сломать это соотношение.
Стоит ли говорить, что после 3-D фрагмента «Don’t Hug me I’m scared» стало откровенно психоделическим?
Дополнение 1. Поле становления
Иногда морф-техника не ограничивается одним произведением и становится полем, распространяющимся на несколько отдельных анимационных фильмов. В сериалах — таких, как «Время приключений» или «Рик и Морти» — абстрактная субстанция разных серий сильно различается, включает в себя избыточности графической, кукольной, пластилиновой анимации — и, тем не менее, может быть причислена к одному потоку становления. Многочисленные проморолики «Рика и Морти№, сделанные разными аниматорами (в том числе пластилиновые пародии на классические фильмы ужасов и Шванкмайера, 3-D ролики в стилистике аниме и пиксельная анимация) ставят под вопрос существование какого-либо герметичного «мира» сериала, в котором происходят действия (рис. 12). Универсальных, статичных анимационных миров не бывает: есть только текучесть, в разных областях которой персонажи не только выглядят, но и говорят, и действуют по-разному. Случай с «Риком и Морти» можно представить как новый виток взаимодействия автономных абстрактных мгновений и движения: здесь в диалектику самодостаточности и разомкнутости к Целому вступают отдельные видео.
Персонаж / морф
Бóльшая часть персонажей анимации становятся морфами благодаря технике-морфу, меняясь в ходе более масштабных процессов (поэтому их с натяжкой можно назвать морфами). Если маркеры персонажа достаточно устойчивы, то его можно узнать повсюду, в любой технике и способе репрезентации – так, достаточно всего лишь нескольких пятен коричневого цвета, чтобы распознать Чебурашку.
В «технических» морфах-персонажах любопытен разве что тот факт, что смена техники и нарратива может полностью поменять их характер. Нет ничего удивительного в Чебурашке с окровавленным ножом или в женской версии Рика, работающей под «lofi hip hop radio — beats to relax/study to» [24]. В конечном счёте, единство их образов — это единство их визуальных маркеров, в лучшем случае — повторение характерной фразы или жеста. Абстрактные тела подобных персонажей легко встраиваются в любой контекст, напоминая о базовой формуле морфа: быть другим относительно себя — быть тем же в своём различии — снять оппозицию между «быть другим» и «быть тем же».
Куда интереснее морфы-персонажи, которые меняются радикально и мгновенно в относительно устойчивой технике.
Эмблемой подобного морфа-персонажа можно считать пса Джейка из «Времени приключений». Маркеры этого персонажа — большие глаза с белками, характерная морда и жёлтый цвет — позволяют легко распознавать его. Но пропорции его тела не закреплены даже в диегетическом пространстве. Он способен растягиваться, увеличиваться и уменьшаться, отращивать конечности, создавать из своей плоти предметы одежды, животных, автомобили, собственные копии и копии других персонажей — всегда сделанные из однородной жёлтой материи. Судя по всему, он может контролировать любое количество форм одновременно. При этом все его метаморфозы выглядят в анимации настолько естественно, что не вызывают ни малейшего отторжения, его тело совершенно лишено органов.
Пёс Джейк — грандиозный фантазм о телесном бытии-всем, о Земле, целиком состоящей из мяса. Его любовь к еде — это страсть к поглощению всего вокруг, любого образа и режима существования. Его прошлое полно историй, которые никак не сочетаются с его личностью и для каждой из которых у него есть своя временно устойчивая форма. Он есть прекрасная метафора квир-субъекта, определяемого подвижностью, текучестью, странствованием по точкам спектра.
Более того: тело пса Джейка способно мыслить самостоятельно. По ночам его хвост выступает в цирке в амплуа грустного клоуна без ведома своего хозяина [15, S06E05]. В одной из серий Джейк попадает в мир, полностью созданный из его плоти, который населен говорящими и, возможно, разумными существами [15, S06E18] (рис. 13).
Верно и обратное: Джейк мыслит телом, мыслит вещью (в том режиме избыточности, в котором он вместе с вещью существует). Иногда он отвечает на вопрос, буквально становясь ответом или говорит о персонаже, принимая его форму.
Джейк полностью снимает оппозицию между сознанием и телом, его психический импульс равен жесту.
Причины изменения Джейка лежат в нём самом, в его желании, не отделимом от действия — поэтому он воплощает один из главных аспектов сущности анимации: прозрачность, ломкость границы между материей и сознанием.
Другой любопытный пример морфа-персонажа — центральная фигура (буквально: фигура, находящаяся в центре экрана) из «9 способов нарисовать человека» Александра Свирского [25.]. Этот морф не имеет очевидных маркеров и ясных границ. В центре экрана появляются многочисленные подвижные коллажи на тему человека, детали которых постепенно заменяются, как доски Арго. Эти коллажи то исчезают в мерцании, то собираются снова уже из других частей. Состояния этого морфа — отдельные, более устойчивые морфы, характеризующие более или менее конкретные образы человека, а сквозной морф — человек вообще (настолько, насколько человек-вообще может поместиться в данную технику), как сумма возможных взглядов на его бытие или сплошное становление (рис. 14). «9 способов» выбраны как будто бы случайно и потенциально могут быть «бесконечностью способов».
Пространство / морф
Большинство случаев морфа-пространства уже рассмотрено мною выше. Часто пространство изменяется либо как часть морфа-техники, либо как трансформирующаяся видеомасса — что не слишком отличается от телесных изменений морфа-персонажа в варианте пса Джейка (разве что — мгновенным уничтожением перспективы).
Однако существует особый, уникальный вид анимационного морфа-пространства, который можно назвать глубиной.
Более простой вариант анимационной глубины — цельное изменение пространства как реакция на действие объекта, размещённого в этом пространстве. Такая глубина несколько раз встречается в «Бочке» Александра Федулова [26, 03:00–03:04] (рис. 15) — например, когда главный герой, существующий в двухмерном пространстве, ставит бочку и, вторя его движениям, из земли вырастает трёхмерный ландшафт — не подчиняющийся правилам перспективы, но указывающий на некоторое соположение вещей в пространстве, а не просто их заслонение друг другом. Подобное явление в свёрнутом виде встречается во «Времени приключений»: когда персонажи ходят не параллельно экрану, остальные объекты движутся вглубь и как бы за них — причём не по прямым траекториям, как если бы существовала камера, двигающаяся вместе с персонажами, — а по изогнутом линиям.
Такая глубина — вариация на тему глубины Делёза как «связей, действий и реакций» между несколькими [9, с. 70] планами, только органическая связь здесь происходит не между планами, а между объектом и самим пространством.
Более сложная глубина — это изменение пространства в зависимости от движения взгляда зрителя, точки зрения, с которой он наблюдает за происходящим в мультфильме. Одним из планов здесь становится взгляд самого зрителя. Эту глубину тоже можно встретить у Федулова — но уже в фильме «В тишине» [27, 02:06–02:15] (рис. 16). В одной из сцен точка зрения приближается к светящейся щели вокруг двери — и предметы расступаются перед взглядом, переставая заслонять друг друга. Щель увеличивается — но не потому, что воображаемая камера становится меньше, а потому что уменьшаются дверь и стены.
Глубина второго типа есть также в уже упоминавшемся «Quartet N2» Паниной [10.]. В нём пространство прогибается под тяжестью взгляда, падающего на центр экрана. Чем ближе деревья оказываются к периферии экрана, тем сильнее они изгибаются и смазываются. Пространство как бы стремится расступиться, освободить прямую между взглядом и зиянием за деревьями, на середине которой оно застряло.
Подобная глубина отсылает к глубине Мерло-Понти, которая есть «причастность Бытию без ограничений, и прежде всего — в пространстве вне какой бы то точки зрения» [17, с.30]. Даже в анимации мы не можем увидеть вещь сразу со всех сторон и изнутри, в её полноте — но она преодолевает Рисюзию глубины-как-ширины, Рисюзию того, что вещи могут загораживать одна другую. В мультфильме Федулова объекты уступают самому взгляду, открывая другие объекты, поэтому косвенным путём мы способны заглянуть вглубь вещей.
Заключение
В данной работе я попытался приблизиться к пониманию сущности анимации, проанализировав три ключевых её аспекта: движение, рисовку в её отношении с аппаратом восприятия человека и морфинг (трансформации) сущностей на экране.
В первой части работы я ввёл понятие «абстрактных мгновений» как фундаментальных единиц анимации, противопоставив их «монтажным кускам» кинематографа. Я также разделил особое «августинианское» движение, изначально присущее кинематографу и движение-мерцание, свойственное анимации. На основании этого понятийного аппарата я предложил классифицировать анимацию и кинематограф как два полюса одного континуума (что отличается от предыдущих иерархических классификаций), что позволяет анализировать фильмы на основе характера движения, представленного в них.
Во второй части я работы выдвинул предположение о том, что живая съёмка (live footage) отличается от рисованной анимации тем, что содержит огромное количество избыточной информации, запечатляя все визуальные свойства реальных объектов — даже те, которые не необходимы для распознавания зрителем положения вещей на экране. Рисовка анимационного фильма, не обладающая подобной «сверхизбыточностью», способна оперировать только минимальными маркерами когнитивных фреймов, необходимых для распознавания той или иной сущности или ситуации, обращаться только к частям наших представлений об объектах. Тем не менее, в рисовке также содержатся определённые элементы, не сводящиеся к представлению, — конкретные цвета, специфические геометрические фигуры, текстуры и так далее, — которые образуют «абстрактную субстанцию» фильма. Модель минимальных маркеров и абстрактной субстанции открывает путь к дальнейшему изучению более комплексных свойств анимации и их связей с устройством сознания.
В третьей части работы я применил понятие «морфа», введённое Вивиан Собчак в статье «At the Still Point of the Turning World» [16], для анализа трансформаций техники, персонажей и пространства в анимационных произведениях. Судя по всему, морфинг является базовым для анимации приёмом, и исследования, направленные на классификацию его разновидностей, изучение его значения и возможностей способны значительно улучшить наше понимание этого медуима. Кроме того, важность морфов в некоторой степени обосновывает «законность» места анимации среди важнейших медиумов цифровой эпохи, поскольку сама сущность этого приёма связана с культурой мгновенных изменений, с флюидностью материи и сознания.
Предложенная в данной статье система концептов описывать многие случаи и свойства анимации, предлагает инструментарий для разговора в том числе о пограничных и экспериментальных проявлениях этого медиума. Несмотря на то, что эта система требует развития, уточнения, исследования связей между рассмотренными здесь по отдельности аспектами и обогащения новыми концептами (к примеру, в статье отсутствует какой-либо анализ роли нарративов и звука в исследуемом медиуме), её можно считать одним из первых шагов по направлению к целостной теории анимации.
Ушаков, В.В. Как мыслит Пёс Джейк: на пути к общей теории анимации // Культура и технологии. 2020. Том 5. Вып. 2. С. 51-76. DOI: 10.17586/2587-800X-2020-5-2-51-76
- Beckman K., ed. Animating Film Theory. Durham and London: Duke University Press, 2014. 359 p.
- Lamarre T. The Anime Machine: A Media Theory of Animation. Minneapolis: the University of Minnesota Press, 2009. 385 p.
- Buchman S., ed. Pervasive Animation. Routlege, 2013. 352 p.
- Августин, А., “Трактат о Граде Божьем” // Блаженный Августин. Творения. Том 3–4. – СПб.: Алетейя, 1998.
- Gunning T. Animating the Instant: the Secret Symmetry between Animation and Photography //Animating Film Theory. Durham and London: Duke University Press, 2014. P. 41.
- Manovich L. What is digital cinema, 1995. URL: http://manovich.net/content/04-projects/009-what-is-digital-cinema/07_article_1995.pdf (дата обращения: 13.04.2020)
- Cholodenko A. “First Principles” of Animation. // Animating Film Theory. Durham and London: Duke University Press, 2014. P. 98.
- Введенский А. Серая тетрадь. URL: http://fege.narod.ru/librarium/vved.htm (дата обращения: 13.04.2020)
- Делёз Ж. Кино. М.: Ад Маргинем, 2004. 625 с.
- Эйзенштейн, С., “Неравнодушная природа” // Избранные произведения: В 6 т., т.3. М.: Искусство, 1964. Т. 3. С. 427.
- Deren, M. Cinematography: the Creative Use of Reality // Daedalus. Vol. 89 (1). The Visual Arts Today: 1960. p.157
- Пазолини П. Поэтическое кино. URL: http://www.kinovoid.com/2015/05/poeticheskoe-kino-pazolini.html (дата обращения: 13.04.2020)
- Minsky M. A Framework for Representing Knowledge // The Psychology of Computer Vision. McGraw-Hill, 1975. P. 1-3.
- Sobchack V. What My Fingers Knew. Цит. по цитата Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино: глаз, эмоция, тело. СПб: Сеанс, 2016. С. 235
- Эйзенштейн С. Дисней. Цит. по Н.Н.Ростовой, Хаос и форма в природе субъективности” // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013. № 2. C. 172
- Sobchack V. At the Still Point of the Turning World // Visual Transformation: Meta-Morphing an the Culture of Quick Change. Minneapolis: The University of Minnesota Press, . P.132.
- Мерло-Понти М. Око и Дух М.: Искусство, 1992. С.30
Фильмография
- “На последнем дыхании” (“À bout de souffle”, реж. Ж.-Л. Годар, 1960)
- “Mothlight” (dir. S. Brakhage, 1963)
- “Сельский врач” (“Kafuka: Inaka isha”, реж. К. Ямамура, 2007)
- “Ван Гог. С любовью, Винсент” (“Loving Vincent”, реж. Д. Кобела, Х. Уэлшман, 2017)
- “Дом, который построил Джек” (“The House That Jack Built”, реж. Л. фон Триер, 2018)
- “Хоббит: нежданное путешествие” (“The Hobbit: An Unexpected Journey”, реж. П. Джексон, 2012)
- “Взлётная полоса” (“La jetée”, К. Маркер, 1962)
- “Асса” (С. Соловьёв, 1987)
- “The Dante Quartet” (dir. S. Brakhage, 1987)
- “Quartet N2” (реж. А. Панина)
- “Одинокая вилла” (“The Lonely Villa”, реж. Д. Гриффит, 1909)
- “Золушка” (“Cinderella”, реж. К. Джероними, Г. Ласк, У. Джексон, 1950)
- “Крокодил Гена” (реж. Р. Качанов, 1969)
- “Аталанта” (“L’Atalante”, реж. Ж. Виго, 1934)
- “Время приключений” (“Adventure time”, продюсер и сценарист П.Уорд, сериал 2010-2018)
- “Wile E. Coyote and the Road Runner” (created by C.Jones, M. Maltese, series 1949-2014)
- “Тьма/Cвет/Тьма” (“Tma/Svetlo/Tma”, реж. Я. Шванкмайер, 1989)
- “Дарья” (“Daria”, создано Г.Эйхлером, С.Линн, сериал 1997-2002)
- “Фантасмагория” (“Fantasmagorie”, реж. Э.Коль, 1908)
- “Рик и Морти” (“Rick and Morty”, создан Д.Ройландом и Д.Хармоном, сериал 2013 — )
- “Terminator 2: Judgment Day” (dir. James Cameron, 1991)
- “Человек-волк” (“The Wolf Man”, реж. Д. Уоггнер, 1941)
- “Don't Hug Me I'm Scared” (dir. B. Sloan, G.Pelling, 2011)
- “Rick and Morty: lofi beats to relax/study to” (animated by Paul Robertson, 2019)
- “9 способов нарисовать человека” (реж. А.Свирский, 2016)
- “Бочка” (реж. А.Федулов, 1990)
- “В тишине” (реж. А. Федулов, 1989)